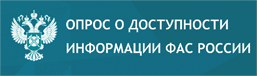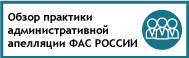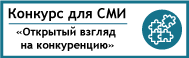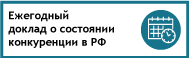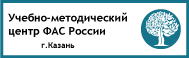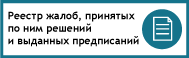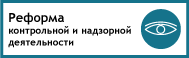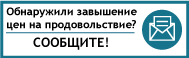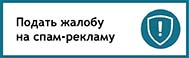Хакасию в очередной раз сотряс скандал. Его темой стало приобретение по нацпроектам детсадов для трех сельских населенных пунктов. Напомним, республике выделили федеральные деньги на приобретение готовых помещений для детских учреждений. Прокуратура и УФАС установили массу нарушений в ходе проведения сделки. Процесс мгновенно перешел в публичную плоскость, в адрес заказчика и антимонопольной службы посыпались обвинения и упреки, которые больше напоминали упражнения, кто активнее заявит о любви к сельским детям детсадовского возраста. Мы решили пойти другим путем и объективно разобраться в ситуации, спросив о подробностях у непосредственного участника этой истории, руководителя УФАС по Хакасии Ксении Лебедевой. Разговор получился интересным, но понравится он далеко не всем.
— Ксения Александровна, руководство федеральной антимонопольной службы недавно вы-звали на дуэль, пригласили посмотреть в глаза родителям и обвинили в попытке отобрать садики у детей. Где же правда в истории с детскими садами, сотрясающая местные и федеральные СМИ?
— Я не очень люблю слово «правда», потому что она у всех своя, давайте лучше будем оперировать фактами. А они таковы. Федеральные деньги в размере почти 100 миллионов рублей были выделены республике на приобретение готовых помещений, и только поэтому процедура могла быть проведена без торгов. Заказчик в лице Министерства образования РХ и тех муниципалитетов, на территории которых должны были появиться детские учреждения, об этом знали, но заключили сделку на приобретение заведомо недостроенных объектов. Тем самым фактически отдали подряд на строительство без проектно-сметной документации и без торгов тому, кому решили сами. Опять же, зная об этом, они оплатили стоимость объектов как готовых и соответствующих требованиям, на самом деле — профинансировав недострой.
— Так, может, готовых помещений просто не было, где в селах найти готовые объекты? Ведь если бы не проверка, то садики потихоньку достроили бы, отчитались, и все было бы хорошо. Какая разница, как сделали, если результат налицо, согласитесь?
— Вот в этом-то и проблема. Я могу понять родителей ребятишек, они действительно не обязаны думать о тонкостях государственных процедур, их волнует конечный результат — детям нужен детский сад. Но люди бюджетной системы — другое дело, они наняты государством для качественного выполнения определенных функций. И не могут так рассуждать. А если подрядчик, получив деньги за недострой, собрал бы чемоданы и исчез? По документам к нему претензий нет, в них написано, что помещение готово и соответствует установленным требованиям. Тогда как быть? Вы же, когда хотите купить, например, машину, не очень верите продавцу, который говорит: давай ты мне деньги отдашь сейчас, а машину получишь завтра, причем показать я тебе ее не могу, но поверь, с ней все в порядке. Нет же? Наоборот, вы тщательно изучаете документы или просите знакомого эксперта посмотреть транспортное средство, потому что не хотите рисковать своими деньгами. Происходит довольно много случаев мошенничества и недобросовестности. А здесь помещение, в котором дети будут находиться весь день! Кто проверял безопасность конструкции, ее соответствие строительным нормам и так далее? Ведь проектных решений, экспертизы и строительного надзора не было, рассчитывали, по сути, только на честное слово подрядчика. Вы считаете, это достаточно весомый аргумент?
Кроме того, ну не получилось бы замять эту историю, ведь есть конкретные сроки, согласно которым детские сады должны были сдать еще в прошлом году, поэтому на что надеялся заказчик — мне не очень понятно.
— Почему же тогда так произошло? Есть у вас какое-то мнение по этому поводу?
— Есть, но оно не всем нравится. Потому что существует большая разница, за счет чего мы получаем какие-то блага. За счет того, что пытаемся обмануть систему, или за счет того, что эффективно работаем? Растиражированный средствами массовой информации «героический подвиг» исполнительной власти республики по открытию детских садов на самом деле может выйти нам боком. Территория попадет в список субъектов, которые не в состоянии адекватно распоряжаться федеральными средствами. Как вы думаете, выделят нам еще деньги? Можно как угодно относиться к существующей системе распределения федеральных средств, но другой нет. И вместо того, чтобы убеждать, договариваться, качественно готовить документы, профессионально и эффективно выстраивать долгосрочные отношения с федеральным центром, мы почему-то предпочитаем зарабатывать себе репутацию территории, с которой лучше не связываться. То есть, вместо системной и планомерной управленческой работы, у нас предпочитают «тушить пожары», что больше говорит о проблемах в системе управления, чем о мастерстве «огнеборцев». Ведь проблема-то не решена. Детские сады как раз никто закрывать и тем более отбирать не собирается, они будут работать. Но возбуждены дела, должностным лицам, в том числе муниципального уровня, придется еще долго объясняться, доказывая отсутствие злого умысла со всеми вытекающими последствиями. Такой результат можно назвать эффективным управлением? Кроме того, подобные скандальные проекты, безусловно, отразятся на общем социальном климате территории, неприятности коснутся многих. Будет в этих условиях развиваться какая-то инициатива, здоровая конкуренция, партнерство?
— Вы об этом больше теоретически рассуждаете, о снижении уровня конкурентоспособности республики, или уже есть какие-то предпосылки?
— Мы фиксируем устойчивое сокращение числа участников торгов, в целом увеличение количества нарушений при взаимодействии бизнеса и государственных структур. Это было и раньше, при предыдущем руководстве республики, но сейчас больше. И это тревожный звоночек. Ведь важно понимать, что антимонопольное законодательство призвано защищать рыночные механизмы, а не чьи-то личные интересы. Потому что здоровая конкуренция ведет к повышению качества товаров, услуг, сервиса, возможности выбора для потребителей. Когда процедуры понятны и открыты, участников много, тогда сложнее придумывать какие-то «темные» схемы, все же на виду. Подвиги опять же сложнее совершать, сложнее шуметь, что наши дети останутся без детских садов, сложнее показывать, в чем роль заказчика и эффективность системы управления. Потому что, когда нет конкуренции, нет рынка, нет достаточного количества участников на нем, приходится использовать то, что есть, работать с теми, кто есть, потому что других нет.
Вот недавно мы разбирались с ситуацией со спецстоянками. Это такое специально отведенное место для хранения задержанных транспортных средств. Заказчик, в данном случае Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия, провел торги и заключил договор на эти услуги с предпринимателем, который не придумал ничего лучше, чем автомобили из Боградского района ставить на спецстоянку в Абакане. А потом, когда приходило время возвращать их, рассчитывал стоимость, исходя из каждого километра транспортировки. Это десятки тысяч рублей! Спрашивается, зачем? Причем на этом рынке достаточно предпринимателей, способных обеспечить качественное выполнение данных услуг, но придумали вот такую схему. Люди жаловались, но министерство не обращало на них внимания, хотя обязано было расторгнуть договор. Поправили.
— Но с кем-то у вас получается конструктивно взаимодействовать? А то вы прямо как карательный орган…
— Нам мягкими быть нельзя, потому что все участники рынка, с которыми мы работаем, опытные люди. Как только будет ослаблен контроль, сильные сразу начнут давить более уязвимых, так было всегда. Но диалог происходит. Вот город Абакан, например: у нас сложились вполне конструктивные отношения по ряду ключевых вопросов. Хотя и не сразу.
Один из примеров — уменьшение доли участия города в экономике. По сути, речь идет о планомерном сокращении числа муниципальных предприятий и передаче ряда таких услуг бизнесу. Потому что в администрации Абакана работают люди, которые умеют считать бюджетные деньги и видеть очевидные факты.
— Ну Абакан вряд ли можно сравнивать с другими муниципалитетами республики…
— Согласна, но лишь отчасти. Еще совсем недавно, кстати, он практически не участвовал в освоении федеральных средств по линии национальных проектов. А сегодня львиная доля осваивается именно в столице. Почему? Да потому что ключевое слово — осваивается! Да, не без проблем и шероховатостей, но зато без подвигов и скандалов. А другие муниципалитеты сталкиваются с трудностями в виде отсутствия подрядчиков и ресурсов для освоения федеральных средств, нацеленных на решение социальных проблем территорий. И часто мы слышим, что это они сами виноваты, потому что не дорабатывают. В чем-то, возможно, да, но это не объективная картина. И в чем же тогда роль регионального уровня власти, если такие слабые муниципальные образования? Разве они сами по себе должны справляться с проблемами? Результативное взаимодействие с федеральным центром и комплексное развитие территории — это уровень ответственности региональной власти. Федерация реализует крупные государственные проекты через субъект, а уже он взаимодействует с муниципальными образованиями. И что мы видим? Значительную долю даже тех федеральных средств, которые сегодня выделяются республике, адекватно осваивает лишь Абакан. Я говорю это не для того, чтобы кого-то обидеть, а для того, чтобы показать, что с такой ситуацией нужно работать комплексно. И ответы на многие вопросы здесь лежат именно в плоскости системы управления.
Беседовала
Яна МЕЧНИКОВА